Многоликий порок: История Венеры и Тангейзера, стихотворения, письма
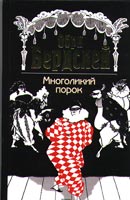 Бёрдслей О.
Бёрдслей О.М.: ЭКСМО-Пресс. - 368 с.
Год издания: 2001
Рецензент: Распопин В. Н.
"Мендельсон не обладал даром конструкции. У него просто была склонность к повторениям и развитиям".
"Когда англичанин высказывает убеждение в первенстве Шекспира меж поэтами, он уже считает для себя излишним изучение общей литературы. Мало того, он считает тогда излишним и более близкое знакомство с самим Шекспиром".
"Тёрнер - краснобай красками".
"Что за домоседка английская литература! Легко назвать целых пятьдесят незначительных французских писателей, чьи произведения знакомы всему миру, и трудно указать четырех наших величайших авторов, сочинения которых читались бы большой публикой за пределами Англии".
"Вы замечали, что ни одну книгу не получается хорошо проиллюстрировать, едва она стала классикой? Интересны и ценны только иллюстрации современников".
Эти афористичные, сатирические и парадоксальные высказывания Обри Бёрдслея взяты из его застольных разговоров и писем и, на мой взгляд, почти идеально отражают истинную сущность гениального мальчика, слишком много прочитавшего, слишком глубоко понимавшего музыку и слишком талантливо и много нарисовавшего. За слишком короткий срок, отпущенный ему судьбой.
Он умер, не дожив до 26-ти, последние, самые яркие творчески, самые зрелые духовно годы задыхаясь в четырех стенах гостиничных номеров, мечась от безнадежности кровохарканий к надежде на могущество медицинских светил, от книг к религии, от подённого иллюстрирования к переписке с единственным, кажется, другом, Марком-Андре Раффаловичем, богатым российским евреем и европейским писателем, неустанно поддерживавшим тяжело больного гения.
Декадент и певец порока, как Блок из мандельштамовского дистиха ("Блок - король и маг порока./ Рок и боль венчают Блока"), создавший собственный неповторимый стиль из чужих и на первый взгляд несовместимых манер прерафаэлитов и их последователей, итальянских мастеров эпохи Кватроченто, французских миниатюристов периода Рококо и... японских художников, Бёрдслей, подобно Пушкину, вмещал в себя что угодно, преображая заимствованное, делая его собственным и совершенным.
С.К. Маковский определил: "Искусство Бёрдслея - небывалый синтез. Он - парнасец, романтик, сатирик, мистик и карикатурист; но ни одно из этих определений для него не характерно. Характерно его умение сливать в одном, неожиданно цельном впечатлении и эстетство парнасца, и романтизм, и сатиру, и мистический пафос, и карикатуру. Он смеется, оставаясь серьезным, мечтает, как трубадур, и вместе с тем шутит с цинизмом Рабле. Ужасается и позирует, бичует, молится и развратничает - в то же время соединяет несоединимое: тайна его убедительности...
Но при всем этом Бёрдслей всегда остается художником "своей эпохи", современником до мозга костей, эстетом "конца века", par excellence прославляющим тот культ красоты, которому служили и Флобер, Готье, Россетти, Бодлер, Уайльд, все изысканные поэты нового возрождения или так называемого упадка".
Гениальный юноша всё это, конечно, сам о себе знал. И знал себе цену. Но, поддерживаемый по большому счету лишь матерью и Раффаловичем, истаивающий, как свеча, почти обо всем успевший передумать и почти ничего не успевший узнать на опыте, он в конце концов, подобно и не-подобно Гоголю и Кафке, отрекся от лучшего из созданного своей гениальной рукой: "Умоляю Вас уничтожить ВСЕ экземпляры "Лисистраты" и неприличных рисунков... Всем, что есть святого, заклинаю Вас... Обри Бёрдслей, в предсмертной агонии" (Письмо издателю Л. Смитерсу от 7 марта 1898 г., за 9 дней до смерти).
Смитер, как и душеприказчик Кафки Макс Брод, разумеется, воли покойного не выполнил. К счастью для нас и для искусства.
Прошло сто лет, и кто теперь осмелится назвать неприличной искусную, изысканную, пряную, эстетско-бесовскую эротику современника и соперника Уайльда?
Ныне Бёрдслей даже не гений декаданса. Он - классик.
Как классик Обри Бёрдслей и представлен в новой книге издательства "ЭКСМО": лучшими рисунками, ранней повестью "Венера и Тангейзер", несколькими стихотворениями и обширным корпусом писем.
Здесь нет возможности, да и особой необходимости разбирать "Венеру и Тангейзера". Это очень хорошо сделано в статьях Н. Евреинова и С. Маковского, открывающих и завершающих издание. Скажу только о своем впечатлении.
Как бывает "проза поэта" ("Шум времени", "Четвертая проза" О. Мандельштама, "Охранная грамота", "Детство Люверс" Б. Пастернака, автобиографические записки А. Ахматовой, мемуарные очерки М. Цветаевой), так бывает, судя по этой книге, и проза художника, ни на что не похожая, непривычная, изысканная и хрупкая. Вот лишь один маленький пример: "Тут были вуали, усыпанные точечками, под которыми кожа лица казалась пятнистой, веера с узкими прорезями для глаз, сквозь которые кокетничали их милые владетельницы, другие веера, расписанные разными фигурами и покрытые сонетами Спориона и рассказами Скарамуша; веера из огромных живых бабочек, насаженных на серебряные ручки <...> Некоторые из дам приклеили себе премиленькие усики, окрашенные в ярко-зеленый или пурпурный цвет, закрученные или напомаженные с поразительным искусством; другие налепили себе огромные белые бороды наподобие святого Вильгефорта, тела их там и сям Дора расписал замысловатыми виньетками и потешными рисунками. Так, на щеке - старик, почесывающий свою рогатую голову; на лбу - старуха, которую дразнит дерзкий амур; на плече - какая-нибудь любовная канитель; вокруг груди - кольцо сатиров; вокруг кисти руки - венок бледных, невинных младенцев; на локте - букет весенних цветочков; на спине - сцены изумительных похождений; на углах рта - крошечные красные точечки, а на шее - полет птиц, попугай в клетке, ветка с плодами, бабочка, паук, пьяный карлик или просто монограмма".
Проза живописца... А ведь это про нас, господа, про наше время: посмотрите "Интимный дневник" Питера Гринуэя, или сходите, например, в "Черную вдову" на молодежно-артистическую тусовку - убедитесь воочию и заодно, если еще не знакомы, познакомитесь с тем, что называется современным искусством или "искусством татуировки".
Сильнейшее, нежели художественная проза, и тягостное впечатление производят письма Бёрдслея. Они занимают основной объем книги и отражают практически весь жизненный и творческий путь гениального художника: от записок 6-летнего ребенка, до цитировавшейся уже мольбы агонизирующего страдальца к издателю. Перед глазами читателя из талантливого юноши, старающегося не отстать от моды века, диктуемой Оскаром Уайльдом, этакого одновременно денди и кутюрье, заботящегося о каждой складочке своего платья, Бёрдслей превращается в жадного до работы художника, нового певца "цветов зла", в измученного болезнью мудреца, в ревностного католика-неофита. Письма, посвященные искусству, постепенно становятся историей болезни и - вынужденно - "дневником лишнего человека", исповедью маргинала, некогда, совсем недавно бывшего истинным экстравертом: острословом, тружеником, собеседником.
Нет, Обри Бёрдслей написал не только неоконченную "Венеру и Тангейзера", он создал еще один великий текст - роман собственного умирания, роман мужественной и, увы, безнадежной борьбы со смертью, тем более страшный, что герой этого романа - гениальный мальчик, которому суждено почти все узнать из книг и почти ничего не изведать в реальности, но при этом олицетворить эпоху и самому стать эпохой.
А еще говорят, что истинное искусство обязано быть "от жизни". Лжецы!
Издание эпистолярного наследия великого графика, его неоконченной юношеской повести и нескольких стихотворений обрамлено тремя глубокими очерками о жизни и творчестве Бёрдслея его современников: Н. Евреинова, С. Маковского и А. Симонса. Прочтенные подряд и лучше всего дважды - до того, как читатель познакомится с текстами самого Бёрдслея, и после - они позволяют оценить отношение к художнику эпохи декаданса, эпохи, коей он был старшим современником и отчасти предвестником. В сущности же, эти работы дают не меньшее представление об отношении к Бёрдслею нашего времени, ибо мы ведь, по прошествии столетия, тоже живем в эпоху декаданса.
И еще, напоследок. Письма Обри Бёрдслея, кажется, раскрывают нам одну "страшную" тайну всякого творца: в жизни он совсем не таков, каким представляется в своих трудах. "И мал, и мерзок..." Нет, я не о том. Я о том, что художественный текст и лирический герой не есть калька с автора. И прав безусловно Николай Евреинов: "...несмотря на дьявольщину своей "гротескной" эротики, это был довольно благонравный в жизни юноша, с благородным складом ума, весьма любимый в своей семье". Почти в каждом письме Бёрдслея, вплоть до самого последнего, можно прочесть "дорогая сестра", "дорогая мама", "дорогой брат"... А посмотрите на его фантастически свободные от каких-либо земных привязанностей рисунки, сравните с письмами - разные люди!
И все же главное - творчество. Почему Бёрдслей - эпоха? Почему его искусство очень близко нам? Кроме сказанного выше, потому что он - одновременно классик и мистик, мальчик и мудрец, гений и злодей (в смысле творческой дерзости), акробат, балансирующий на краю пропасти в безвкусицу и уже столетие примером своим показывающий, как ее преодолевать.
«Многоликий порок: История Венеры и Тангейзера, стихотворения, письма»
Год издания: 2001



