Мифология "подпольного человека": радикальный микрокосм в России начала ХХ века как предмет семиотического анализа
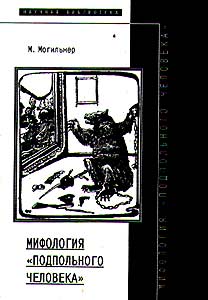 Могильнер М.
Могильнер М.М.: Новое литературное обозрение. - 208 с.
Год издания: 1999
Рецензент: Распопин В. Н.
Что первично: жизнь или литература? Странный вопрос, казалось бы... Странный, но не в России. У нас "новую жизнь" делали именно писатели, не только, так сказать, посредством внедрения идей в массовое сознание, сидючи за письменным столом да выдумывая всяческих "лишних" и "подпольных" героев, но нередко действуя и собственным практическим примером. Вспомним: Радищев, Рылеев, Достоевский... Степняк-Кравчинский, Савинков и многие-многие другие.
Названных последними смело можно считать главными героями чрезвычайно интересного исследования Марины Могильнер, посвящённого "академической истории дореволюционной российской интеллигенции, которая естественным образом находится в зависимости от влиятельных мифологем, созданных интеллигенцией в порядке самоописания" (С. 5). Это исследование радикальной мифологии, созданной радикальной интеллигенцией, исследование от Степняка до Савинкова, то есть от пафоса до развенчания, от возникновения понятия "Подпольная Россия" (которое само, кстати, "изначально возникло как название литературного произведения: в широкий обиход его ввёл террорист и писатель С. Степняк-Кравчинский в серии одноимённых беллетристических "революционных профилей" в 1882 году", с. 7 - 8) до 1913 г., когда "интеллигенция... в массе своей всё меньше походила на рыцарский орден... начинала идентифицировать себя с "общественностью"" (С. 204).
Поскольку автор исследует мифологию радикализма с позиции семиотика, то и внимание своё сосредоточивает прежде всего на "обретении радикальной интеллигенцией адекватного языка самоописания": "Политика периода Подпольной России была окончательно осознана как систематическое силовое воздействие на государство. Интеллигенция, чьи гуманистические ценности в принципе противоречили насилию, да ещё системному, вынуждена была трудиться над самооправданием, и именно поэтому Подпольная Россия не исчерпывается лишь профессиональными революционными группами и партиями, но обязательно включает тексты, описывающие эти организации и их членов, навязывающие их образ как самим радикалам, так и Легальной России" (С. 9 - 10).
Автор рассматривает Подпольную Россию как семиосферу, исследуя главным образом её беллетристику и публицистику от рождения до упадка мифа ("Эта история, уместившаяся в рамки двух десятилетий, и есть история мифологического мира, над созданием которого трудился "подпольный человек"", с. 16), от "оптимистического" наследия "народовольцев" до "песни пола и смерти" Арцыбашева. Перед читателем чередой проходят и властители дум эпохи (Н. Михайловский, С. Нечаев, С. Степняк-Кравчинский, И. Каляев, В. Засулич, В. Фигнер, М. Спиридонова, П. Якубович-Мельшин, В. Ропшин (Б. Савинков), Л. Андреев, М. Арцыбашев) и совершенно теперь забытые авторы. Все они в той или иной мере причастны к созданию коллективного мифа о герое-революционере, жертвующем собой во имя светлого будущего. Сей герой-революционер, однако, не кто иной, как террорист. Потому, надо думать, когда террор из в основном литературы шагнул в реальную жизнь, а террорист вынужден был слиться с массой и встать вместе с ней на баррикады первой, потерпевшей жестокое поражение революции 1905 г., очарованное этим странником общество достаточно быстро преодолело чары.
Другое дело, что окончательно прийти в себя ему, обществу, не позволила война, завершившаяся двумя уже победоносными революциями. Хотя исследование М. Могильнер ограничивается рамками двух десятилетий, в коротком послесловии она тем не менее предлагает свой набросок коллективного портрета людей, "которые во второй половине 1910-х годов воспроизводили основные черты классической радикальной мифологии" (С. 205), определяя основной конфликт 1917 г. как "конфликт между "людьми истории" и "людьми мифа"" (С. 206).
Небольшая по объёму, написанная, несмотря на академический подзаголовок, почти всегда вполне удобоваримым для читателя-неспециалиста языком книжка Марины Могильнер чрезвычайно информативна, насыщена цитатами из произведений как известных и сегодня, так и давным-давно канувших в Лету, вместе с многочисленными газетами и журналами эпохи.
Лично я не просто с удовольствием её прочитал, но открыл для себя много любопытных вещей. Например, узнал о том что образ героической матери революционера, благословляющей сына на подвиг, введён в русскую литературу не Горьким в одноимённом и поколениями изучавшемся до недавних пор старшеклассниками романе, а опубликованным газетой "Молва" от 21 марта 1906 г. "Обращением к русским матерям" А.Я. Спиридоновой, матери знаменитой эсерки, и затем получившим продолжение в художественном произведении "Последнее свидание" (1907), принадлежащим перу матери Бориса Савинкова, оказывается, бывшей популярной беллетристкой. ""Сын мой! Любимый сын! Благословляю и век буду благословлять имя твоё!.." - говорит мать перед казнью своему сыну в рассказе С. Савинковой. Из этой фразы выросла вся последующая литература о матери героя. Материнская тема поистине была литературной специализацией Софьи Александровны: она не просто тиражировала миф, она писала изнутри мифа, за ней стоял авторитет сына" (С. 65).
Не менее интересна глава, посвящённая повестям В. Ропшина (Б. Савинкова) "Конь Бледный" и "То, чего не было". Оказывается, первую из них автор сначала намеревался назвать иначе - "Труды и дни". Однако его доверенное лицо и литературная покровительница, Зинаида Гиппиус, в последний момент перед публикацией самовольно поменяла название. "Ропшинский текст говорил больше, чем намеревался сказать его создатель: апокалиптический Конь Бледный, помимо всего прочего, ассоциировался с окостенением мифологического времени и началом чрезвычайно интенсивной пульсации времени религиозно-исторического. Самовольно переименовав повесть "Труды и дни" в "Коня Бледного", З. Гиппиус сделала удивительно верный шаг. "Труды и дни" отсылали читателя к одноимённому трактату Гесиода, придавая хронотопу повести коннотации безвозвратно прошедшего "золотого века", а также рационализированного и упорядоченного мифологического пространства. "Конь Бледный" разрушал гармонический космос мифа, обещая неотвратимость пришествия будущего, столкновение с неведомой реальностью" (С. 105).
Интересно, кстати, и само происхождение псевдонима "В. Ропшин", под коим укрылся Борис Савинков, второй человек в Боевой Организации партии эсеров: "...современные исследователи... гадают об источнике этого псевдонима. Высказываются даже такие предположения: "псевдоним не случаен, с намёками на потенциальное цареубийство: Ропша - так называлась усадьба, в которой был убит Пётр III в результате заговора, организованного его женой, будущей императрицей Екатериной II. Цареубийство Савинкову не удалось, зато имя Ропшин стало известно" (Шенталинский В. Свой среди своих. Савинков на Лубянке // Новый мир. - 1996. - N 7. - С. 173). На самом деле псевдоним был предложен Савинкову Зинаидой Гиппиус, принимавшей самое непосредственное участие в публикации повести. Савинков хотел выступить под одним из своих партийных имён - Вениамин. Гиппиус это имя не устроило, и она предложила на выбор два псевдонима: В. Кушелев и Н. Ропшин - "имя, под кот. я ОДИН РАЗ, В ПОЛНОЙ ТАЙНЕ, написала что-то о смерти в Полярной Звезде"... В декабре 1908 года Гиппиус меняет инициал Н на В (В. Ропшин) - "во избежание всякой возможности даже невероятных соединений"..." (Сн. к с. 105).
Наконец, в главе "Кровь на серебре века" М. Могильнер рассказывает замечательно интересную историю, выдуманной журналистами петербургской Лиги самоубийц. Интересную не только саму по себе, но ещё и тем, по-моему, как использовал этот же (или именно этот, почерпнутый из рассматриваемой книги, вышедшей в 1999 г.) материал Б. Акунин в своём романе "Любовница смерти" из постмодернистского детективного сериала о похождениях Эраста Фандорина...
Закончу следующим размышлением. Помимо исторического, культурного и литературоведческого аспектов, на мой взгляд, сегодня исследование Марины Могильнер приобретает особый, современный и футурологический, интерес, ведь в большинстве своём мы живём, с одной стороны, как всегда в пространстве куда более мифологическом, нежели реальном (пусть наша извечно революционная история, действительно, повторилась в виде фарса), а с другой - во время нового, пожалуй, более страшного, чем когда-либо, витка терроризма. Есть ли у него и у нас собственные герои, создаст ли наше время собственные легенды, породит ли культуру?.. Вряд ли - фарс всё-таки. Но фарс, личных трагедий никоим образом не отменяющий.
В заключение выражаю благодарность сотрудникам библиотеки первой новосибирской гимназии, указавшим мне на это издание и любезно выдавшим на дом единственный экземпляр, хранящийся в читальном зале.
«Мифология "подпольного человека": радикальный микрокосм в России начала ХХ века как предмет семиотического анализа»
Год издания: 1999



