Повседневная жизнь русского литературного Парижа. 1920 - 1940.
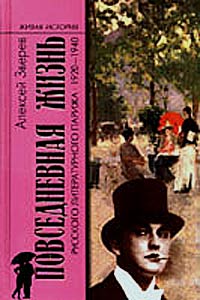 Зверев А.М.
Зверев А.М.М.: Мол гвардия. (Серия "Живая история: Повседневная жизнь человечества"). - 372 с.
Год издания: 2003
Рецензент: Распопин В. Н.
Молодогвардейская серия "Живая история: Повседневная жизнь человечества" основана года три-четыре назад и к сегодняшнему дню содержит уже порядка двух десятков книг, не всегда капитальных, но непременно любопытных. Из тех, что ранее попадались мне в руки, наиболее интересными показались переводные издания, посвящённые повседневной жизни художественного Монмартра и Монпарнаса начала ХХ века. В самое последнее время издательство порадовало читателей произведениями отечественных авторов. Об одном из них я расскажу в этой заметке.
Каждая встреча с новой книгой, посвящённой Серебряному веку русской литературы, вызывает жадный интерес. Тем более когда речь идёт о книге, написанной выдающимся автором. Именно таким - выдающимся - учёным, педагогом, литературоведом, критиком, автором был Алексей Матвеевич Зверев, к несчастью, ныне ушедший от нас. В той же "Молодой гвардии" несколько лет назад выходило его капитальное жизнеописание Набокова, как представляется, обращённое прежде всего к достаточно хорошо подготовленному читателю. В отличие от предыдущей книги, "Повседневная жизнь русского литературного Парижа" обращена к самому широкому читательскому кругу, думаю, больше всего, к учителям словесности, к старшеклассникам, студентам.
Задача, стоявшая перед автором, была чрезвычайно сложна. Из всего многообразия, я бы сказал, разношерстья литературной, философской, журналистской, общественно-политической (то есть опять-таки проявлявшейся прежде всего посредством печати) жизни русских изгнанников (так называемой "первой волны" эмиграции), далеко ещё не собранной, полностью не изданной, не осмысленной и не откомментированной даже на уровне несомненной классики, надо было выделить главное, не пожертвовав существенным второстепенным, не забыв и о быте, ведь писал-то Зверев всё же не просто учебное пособие по зарубежной русской литературе первой половины ХХ века, а именно книгу о повседневной жизни первой волны русской эмиграции. Как не растечься мыслью по древу, как не упустить за лесом деревьев?
Автор выбрал идеально точный путь. Всё многообразие Рассеянья он уложил в десять небольших глав, каждая из которых представляет одного-двух из самых значительных писателей не столько в портретно-бытовом плане, кратком своде критических замечаний или воспоминаний современников, но главным образом на примере их собственных важнейших сочинений. Из этих-то сочинений, глубоко продуманных, пережитых, точно процитированных и прокомментированных самим Зверевым, и восстанавливается на глазах читателя как облик их автора в "лица необщем выраженьи", так и повседневная жизнь русского изгнанника в межвоенном Париже. Более того: сосредоточив внимание на литературном герое столько же, сколько на реальном писателе, то есть выполняя, в сущности, не бытописательскую, не историческую, не культурологическую даже, а литературоведческую задачу, А.М. Зверев создаёт одновременно многослойный и доступный широкому читателю АВТОРСКИЙ текст, легко читающийся и позволяющий без труда понять сложную проблематику литературных и политических споров эпохи, учащемуся юношеству представляющейся едва ли не античной, а учительству ещё недавно почти неизвестной.
Разумеется, у всякого пишущего о литературе, есть свои пристрастия, порой вызывающие недоумение: зачем те или иные лица введены в данный контекст? Так и в данном случае. Кажется, ничего не потеряла бы книга о литературе первой эмиграции и без истории любви Маяковского и Татьяны Яковлевой, а вот парижского периода Набокова в тексте очевидно не достаёт. Не достаёт и более подробных, именных глав о Вейдле и - особенно - Адамовиче, но тут уж помешал принцип построения текста, согласно которому Зверев рассказывает прежде всего и в основном о писателях, об авторах ХУДОЖЕСТВЕННЫХ произведений, хотя, не забудем, Георгий Адамович был первостепенным лириком.
С другой стороны, к суждениям Вейдле, Адамовича, Мочульского автор книги обращается не раз, более того - лапидарней и толковей многих других современных литературоведов раскрывает суть судьбоносных для литературы Рассеянья противостояний, например, Ходасевича и Адамовича, Адамовича и Цветаевой, или того же Ходасевича и Георгия Иванова.
На чьей стороне А.М. Зверев? В контексте книги - не вопрос. Признавая ум и талант критиков, приводя их суждения, он как правило (исключения единичны) выступает на стороне писателей. Даже в тех случаях, когда критик - сам писатель. Искренне восхищаясь поэзией Владислава Ходасевича, в одиночку стоившего, конечно же, всей так называемой "парижской ноты" вкупе с её организатором и вдохновителем Адамовичем, автор тем не менее почти всегда склонен выступить в защиту поэтов от критика, даже когда речь идёт не о таком крупном литературном явлении, как Борис Поплавский, а, например, об известных теперь только немногим знатокам поэзии Раисе Блох или Александре Гингере.
И такая позиция подкупает, ведь мы порой забываем о том, что, сколь бы ни были влиятельны критики да филологи, сколь бы ни была самоценна их деятельность, она всё же вторична, порождена художественной литературой и, в общем-то, призвана её обслуживать, а не затмевать. Тем более такую литературу, какая в межвоенные десятилетия героически умирала в Париже.
Именно так - героически умирала. От этого ощущения невозможно освободиться, читая книгу А. Зверева, написанную в самом начале XXI века, когда художественная литература, по-видимому, умерла окончательно. В какой-то мере "Повседневная жизнь русского литературного Парижа" - не только завещание автора, не только литературоведческий и культурологический памятник литературе Серебряного века - наследнице русской классики, но и реквием классической русской словесности вообще.
Думаю, именно поэтому (а вовсе не только потому, что самому Звереву проза Бунина, Куприна, Зайцева, или поэзия Ходасевича и Г. Иванова очевидно ближе, чем творчество, с одной стороны, Мережковского и Гиппиус, с другой - Поплавского или Фельзена, о котором он вообще не упомянул) "узловыми" главами его книги стали очерки о Бунине, Куприне, Ходасевиче и Цветаевой. Конечно, автор превосходно рассказывает и о "Зелёной лампе", и о "парижской ноте", даже о Вертинском и Плевицкой, но всё-таки главные герои его книги - последние классики великой русской литературы. Их лики и судьбы, их произведения и герои, их надежды и трагедии, о быте как таковом пусть и свидетельствующие, но - во имя бытия.
Посему (пусть сегодня прервалось бытие нашей художественной словесности, но не прервалась российская жизнь, не умерла ещё российская школа, а значит - есть надежда!), завершая свой отклик, я и рекомендую юному читателю и его учителю эту замечательную, вдохновенную книгу, повествующую много больше о бытии, нежели о повседневном быте, но прежде чем поставить точку, приведу несколько пассажей, дабы учитель и ученик удостоверились: книга Алексея Матвеевича Зверева написана не для высоколобых всезнающих интеллектуалов, а прежде всего для них.
""Стиль есть бытие: не мочь иначе", - занесено Цветаевой в записную книжку примерно того же времени, когда проза стала её основным литературным занятием. <...>
Поэтическое вдохновение не покинуло Цветаеву, но всё-таки последние её эмигрантские годы - это по преимуществу время прозы: мемуарной, эссеистской, лирической, а чаще всего такой, для которой трудно подобрать определение жанра. Оно, впрочем, едва ли и требуется, потому что сама Цветаева сказала, что такое проза поэта: вовсе не "проза прозаика, в ней единица усилия (УСЕРДИЯ) - не фраза, а слово, часто даже - слог". Всё то, что Цветаева считала обязательными качествами настоящих стихов, сохраняло свою обязательность и для её прозы: неожиданность, яркость метафоры, способность одухотворять самые простые вещи, а вместе с тем достигать зримости, конкретности рассказа о тонких, почти неуловимых побуждениях сердца. Движение мысли, непременно соотнесённое со звучанием слова и часто даже им подсказанное. Лиричность настолько открытая и неослабевающе напряжённая, что возникает чувство, словно это уже не литература, а документ, который для автора обладает каким-то сокровенным смыслом. Аналогов такой прозы нет во всей русской литературе двух последних столетий, да, пожалуй, в европейской тоже" (С. 191 - 193).
"Как критика его не любили и боялись. Он судил жёстко, не считаясь со сложившимися репутациями, не обращая внимания на внелитературные обстоятельства, которые взывали бы к большей сдержанности в силу житейских причин. Разгром формальной школы в СССР не поколебал его убеждённости в том, что метод этой школы порочен, а писания Шкловского ужасны, и Ходасевич остался при своём мнении, пусть оно оказалось созвучно советским официозным оценкам. Партийные функционеры разносили формалистов как проповедников "безыдейности", а Ходасевич настаивал на коренном родстве этой школы с большевизмом. Если согласиться с нею, что искусство есть приём и не больше, как религия - только опиум для народа, то духовное содержание русской классики, неприемлемое для новой власти, можно, по примеру формалистов, игнорировать как не имеющее ценности. Очень удобно для разрушающих старый мир до основанья.
В Москве былых футуристов заставили отречься от футуризма как от греха молодости, а для Ходасевича он и был грехом, причём непростительным, хотя "мелкобуржуазная идеология", в которой их теперь обвиняют, тут, разумеется, ни при чём. <...> Ведь поэзия и футуризм - вещи несовместные: нельзя быть поэтом и при этом игнорировать вопросы, которыми живёт настоящий художник, всегда пытающийся понять, "что такое мир, что такое наша жизнь в нём". Вопреки броским лозунгам радикального новаторства, футуризм старомоден, на поверку академичен и нормативен, и нет у него "права называться ни НОВОЙ, ни ШКОЛОЙ". <...>
Ходасевич нашёл для характеристики его (Маяковского. - В.Р.) поэзии слова злые, пристрастные, но в чём-то, к несчастью, верные - он назвал Маяковского "глашатаем пошлости". Маяковскому, на взгляд Ходасевича, не отказать в том, что он действительно нов, однако это новизна, губительная для культуры, потому что "он первый сделал грубость и пошлость не материалом, но смыслом поэзии". И весь его пафос - это "пафос погрома и мордобоя".
Через неполных три года Маяковский, затравленный советской сверхбдительной критикой, надломленный историей с Татьяной Яковлевой, запутавшийся в неразрешимом противоречии между порывами к истинной поэзии и велениями общественного долга, застрелился. Ходасевич в апреле 1930-го перепечатал свой памфлет, лишь усилив обличительные ноты. Он знал, что, прозвучав над свежей могилой, такое надгробное слово вызовет возмущение, и на самом деле Роман Якобсон, один из ближайших друзей погибшего поэта, назвал выступление Ходасевича "пасквилем висельника". Им руководили благородные побуждения, но можно понять (хотя вряд ли во всём разделить) и позицию Ходасевича, писавшего: "Откуда мне взять уважение к его памяти?" Неужели следует оплакивать Дзержинского из-за того, что тот не дожил даже до пятидесяти?
Никакой личной ненависти к Маяковскому не было в их раздорах, длившихся без малого два десятка лет. Но для Ходасевича он неизменно оставался символом лжи, политического сервилизма, насилия над духовностью, и от этого своего представления он не отступил, даже когда для его оппонента пробил час настоящей трагедии.
Во главе угла у Ходасевича всегда было искусство, понятое как духовный подвиг, и перед его требованиями отступало всё остальное" (С. 276 - 278).
"Зайцевский "путешественник" Глеб или автобиографический герой Шмелёва, для которого самое незабываемое впечатление детства - паломничество к Троице в Лавру, не изводили бы себя поисками ответа на... труднейшие вопросы. Их путь изначально определён канонами и устоями православия, они едва себе представляют, что такое душевная смута и тоска (хотя подобные настроения в юности посещали и Шмелёва, и Зайцева).
Всё иначе у Бунина. Любая ортодоксальность претит ему. Арсеньев должен найти центр своего бытия, своё назначение сам, не полагаясь на готовое знание. <...> И только тогда осуществится всегдашнее его ожидание особенной насыщенности, духовной заполненности существования.
Одиночество в мире, где нет Бога - живого, душою ощущаемого Бога, который дарует личное бессмертие, - вот она, очень рано открывшаяся Арсеньеву тайна. Этим постижением "пустоты" окружающего пространства предуказано его понимание цели человеческого пребывания на землн. Цель в том, чтобы противиться небытию: непримиримо, отчаянно, убеждаясь, что противоборство безнадежно, и всё равно ни на миг его не прекращая. В бунинской вселенной смерть всегда рядом с ликующей жизнью. <...>
Не было другого русского писателя, которого так мучило понимание, "что всё проходит и пройдёт навсегда и без возврата, что в мире есть разлуки, болезни, горести, несбыточные мечты, неосуществимые надежды, невыразимые или невыраженные чувства - и смерть...". <...> Но не существует иной защиты от смерти, кроме напряжённого переживания этих чувств и мыслей, переживания буквально на пределе, как свойственно бунинским героям, и в особенности Арсеньеву. "Острота зрения" становится противостоянием смерти" (С. 252 - 254).
«Повседневная жизнь русского литературного Парижа. 1920 - 1940. »
Год издания: 2003



