Homo ludens. В тени завтрашнего дня
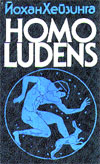 Хёйзинга Й.
Хёйзинга Й.М., "Издательская группа "Прогресс", "Прогресс-Академия""
Год издания: 1992
Рецензент: Распопин В. Н.
Знаменитая книга, культурологический бестселлер крупнейшего нидерландского мыслителя и литератора первой половины ХХ в. Йохана Хёйзинги "Homo ludens" увидела свет в Хаарлеме в 1938 г.; через два года, несмотря на полыхающую в Европе вторую мировую войну, была переведена на венгерский, шведский и португальский языки, а в последующее десятилетие вышла на английском, французском и финском. Широкий русскоязычный читатель смог познакомиться с ней только в 1992-м(1), много позднее, нежели прочел романы Томаса Манна или даже "Игру в бисер" Г. Гессе, написанные одновременно или под влиянием идей Хёйзинги. Мы играли в иные игры.
Впрочем, то же можно сказать и о другом классическом труде Хёйзинги: "Осень Средневековья" (1919 г.) ждала русского перевода почти 80 лет. Лишь во второй половине 90-х московское издательство "Прогресс" приступило к серьезному трехтомному изданию его произведений(2).
Труды Хёйзинги, давным-давно прочитанные во всем мире, многократно оспоренные, породившие громадную библиотеку, ставшие, наконец, классикой, на исходе века предложены были и нам для знакомства и рецензирования.
Прежде чем предпринять таковую попытку, скажу несколько слов о самом Хёйзинге, историке по преимуществу, но и в неменьшей степени культурологе и философе. Истинный христианин, родившийся в меннонитской семье(3), безусловно, просветленный, аполлонический человек, Хёйзинга прожил отпущенные ему семь с небольшим десятилетий в кабинетных, школьных и академических трудах. Гуманитарий по призванию, он выстроил для себя иерархию наук, в которой все они, даже столь любимая им история, подчинены искусству, стилю, выше которого только жизнь и душа человеческая. Здесь, конечно, наблюдается некое средоточие европейских путей философской мысли рубежа веков: с одной стороны, реакция молодого христианина и ученого на засилье позитивизма, с другой - соответствие "впередсмотрящей" западной интеллигенции с ее лихорадочным поиском выхода из "лабиринта судьбы".
Этот выход можно искать на путях кафкианских крайностей, в дионисийских безднах, по-шпенглеровски освещаемых кровавым золотом европейского заката, а можно и окунувшись в вечную несуетную мудрость Востока, как зрелый Гессе, как молодой Хёйзинга, "неспешно, но неуклонно двигавшийся своим собственным путем познания истории, чтобы в конце концов представить ее в нетрадиционно прекрасном облике"4.
Судя по главным трудам ученого, Хёйзинга действительно был счастливым и просветленным человеком, разве что однажды, под конец жизни, испытавшим подлинное унижение: в 1942 г. он провел несколько месяцев в фашистском концлагере. Этой игры с ним, над ним он не пережил, утратив вместе с личной свободой и творческую гармонию, а, может быть, и веру в тот идеал, в поисках и стремлении к которому прожил всю свою жизнь.
Все мы судьбой обречены проиграть, ибо смертны, но физическая смерть пришла к Хёйзинге лишь 1 февраля 1945. Можно только догадываться, чего стоили ему, всегдашнему победителю, три года поражения...
Он, поэт, культурологический Гете ХХ столетия, светлый и мудрый старик-европеец, для кого человеческая история всегда была историей культурного созидания, узнал на себе все "прелести" смрадной ямы азиатчины в ее наихудшем, наверное, нацистском варианте. И это была уж не солнечная, плодоносная осень ренессансного мира, а самая настоящая лютая зима истории.
Так играют с нами боги, смешивая карты и фигуры в тот самый час, когда нам кажется, что до желанной и заслуженной победы остается один ход.
Впрочем, реальный, а не придумываемый здесь Хёйзинга, кажется, почти предвидел все это уже в середине 30-х, когда работал над небольшим трактатом "В тени завтрашнего дня", разделы которого пестрят мрачными заголовками: "В ожидании катастрофы", "Упадок моральных норм", "Государство государству волк?" и т.п., а страницы - прозорливыми предупреждениями, как, например, следующее: "Историческое сознание нашего времени должно быть бдительным, дабы не были воздвигнуты от имени истории кровожадные идолы, которые поглотят культуру!"
Потерявший вдохновение и покой, осознавший поражение, Хёйзинга не сдался и после лагеря продолжал работу как публицист, гражданин и борец Сопротивления. Ни намека на коллаборационизм, ни шага в направлении к другой виднейшей аполлонической фигуре на шахматном поле культуры - Кнуту Гамсуну... Принять поражение с достоинством в одной игре - значит победить в другой. Кто знает, какая важнее? Нам, смертным, хочется считать главной вторую, ту, в которой только и можем мы победить - игру на поле духа и разума.
"Homo ludens" - вероятно, важнейшее, во всяком случае, позднейшее из главных произведений Хёйзинги. Наряду с "Осенью Средневековья" и "Эразмом" оно представляет собой исторический, культурологический и философский триптих знаний и представлений мыслителя нашего столетия о путях человеческой культуры от античности до современности.
"Homo ludens", в какой-то степени представляет собой своеобразную малую энциклопедию знаний, как бы окружающую, обыгрывающую основную идею - "гипотезу - дерзкую, доведенную до крайности, - о природе генезиса человеческой культуры, социального человека как "человека играющего""5.
Имеет смысл процитировать и самого Хёйзингу, предваряющего труд несколько необычным "Предисловием-введением", в котором автор одновременно кратко представляет свою идею и отсылает читателей к описанной мною историко-культурной ситуации, формировавшей молодого ученого: "Когда мы, люди, оказались не столь разумными, как наивно внушал нам светлый XVIII век в своем почитании Разума, для именования нашего вида рядом с Homo sapiens поставили еще Homo faber, человек-созидатель. Второй термин был менее удачен, нежели первый, ибо faberi, созидатели, суть и некоторые животные. Что справедливо для созидания, справедливо и для игры: многие животные любят играть. Все же мне представляется, что Homo ludens, человек играющий, выражает такую же существенную функцию, как человек созидающий, и должен занять свое место рядом с Homo faber.
Одна старая мысль гласит, что, если проанализировать любую человеческую деятельность до самых пределов нашего познания, она покажется не более чем игрой. <...> С давних пор шел я все определеннее к убеждению, что человеческая культура возникает и развертывается в мире, как игра. <...> Для меня проблема заключалась <...> в том, насколько сама культура носит игровой характер" (С. 7 - 8).
Энциклопедист по природе, Хёйзинга и книгу свою строит по энциклопедическому принципу, нанизывая на шнурок идеи все возможные бусины исторического, культурологического и философского знания. Начиная с рассказа о самой природе игры как явления культуры и ее значения в личной и социальной жизни человека, ученый проводит читателя через разделы, посвященные выражению игры в языке и состязании, системах правосудия, политики, войны, поэзии, философии и искусства, через игровой принцип историко-культурного созидания различных общественных формаций, вплоть до анализа игрового элемента в культуре нашего столетия.
От древности восходя к нашим дням, начиная от мифа и заканчивая технократической цивилизацией, ступая по темам, как по ступеням историко-культурной лестницы, Хёйзинга представляет нам игру и играющее человечество во всех ипостасях.
Стоит только привести пару цитат из различных разделов книги, чтобы легко в этом убедиться. Вот VII глава "Игра и поэзия": "По мере того как из мифа исчезает элемент веры, все сильнее звучит игровой тон, который присутствует в нем с самого начала. Уже Гомер не был верующим..." И далее, разобрав в сравнении с античными эпические произведения европейского средневековья: "Основание далеко идущего сходства поэтического выражения во все известные нам периоды истории человеческого общества, по-видимому, в значительной мере следует видеть в том, что это самовыражение формообразующего слова коренится в функции, которая старше и первозданнее всей культурной жизни. Эта функция есть игра" (С. 150, 152). Приходим, таким образом, к мотивам, к архетипам, к изначальному. "Нетрудно заметить, что все эти мотивы возвращают нас прямо в сферу игры-агона. Вторая группа мотивов <...> основывается на том, что личность героя остается неузнанной <...> И вновь мы оказываемся во владениях священной древней игры..." (С. 153). У всякой игры есть свои правила. "Как соперничество в разгадывании загадок (наидревнейший из возможных литературный мотив. - В.Р.) порождает мудрость, так поэтическая игра рождает на свет прекрасное слово. И над тем и над другим господствует система правил игры, которая определяет понятия искусства и символы, будь то священные или чисто поэтические <...> Поэтом может быть тот, кто умеет говорить на языке искусства. От обыкновенной поэтическая речь тем и отличается, что она умышленно пользуется особыми образами, которые не каждому понятны. Всякая речь выражает себя в образах <...> То, что поэтическая речь делает с образами, есть игра. Она располагает их в стилистическом порядке, она вкладывает в них тайны, так что каждый образ, играя, отвечает на какую-нибудь загадку" (С. 154).
Другой пример - юстиция. В средние века серьезная тяжба часто разрешалась поединком: кто победит - тот прав, на стороне того божественное правосудие. "Этот обычай успел превратиться в распространенную по всему миру красивую забаву, в тщеславный церемониал <...> Едва ли можно отделить заменяющее битву единоборство от судебного поединка, которым улаживают конфликты <...> Судебный поединок, даже тогда, когда он ведет к трагическому исходу, с самого начала выказывает склонность выставлять напоказ свои формальные стороны и тем акцентировать игровые черты <...> Если игровой элемент в сильной степени присущ судебному поединку <...> то в равной мере это относится и к обычной дуэли, по сей день бытующей у некоторых европейских народов. Частная дуэль мстит за поруганную честь. Оба понятия - и поруганной чести, и необходимости отмщения за нее - независимо от их неослабевающего психологического и социального значения в целом особенно уместны в архаической сфере культуры <...> В своей сущности дуэль есть ритуальная игровая форма, регламентирующая неожиданное убийство в припадке гнева из-за вспыхнувшей ссоры" (С. 110 - 112).
Читающий эти строки, кажется, просто обязан вспомнить VI главу "Онегина", а вслед и эпохальную лермонтовскую "Смерть поэта". "Судьбы свершился приговор!" - звучит, конечно, совершенно всерьез, но вот предшествующее ему "Игрою счастия обиженных родов" в контексте "Homo ludens" воспринимается уже совершенно иначе. Однако вернемся к незаконченному цитированию.
"Агональный элемент в настоящей войне едва ли возможно определить со всей точностью. На ранних стадиях культуры состязательный элемент в столкновениях племен или одиночек еще не был развит <...> Понятие "война" вступает, собственно говоря, лишь тогда в силу, когда становится явным различием между особым, торжественным состоянием всеобщей вражды и личной враждой, а до некоторой степени и межродовой кровной местью. Подобное различие переводит войну не только в сакральную, но также и в агональную сферу" (С. 112). Далее следуют примеры из истории, подтверждающие заявленную идею.
Так - до наших дней и до нашей культуры, с некоторыми, впрочем, отступлениями: "Однако современная война, похоже, утратила всякое соприкосновение с игрой. Высокоцивилизованные государства полностью игнорируют всеобщность международного права и без зазрения совести исповедуют pacta non sunt servanda (договоры не выполняются) <...> В политике наших дней, которая базируется на крайней подготовленности и - если понадобится - крайней готовности к войне, вряд ли можно теперь узнать даже намек на древние игровые отношения. Все, что связывало войну с празднеством и с культом, исчезло из современной войны, а с этим отчуждением игры война утратила и свое место как элемент культуры. И все-таки она остается тем, чем назвал ее Чемберлен в своем выступлении по радио в первые дни сентября 1939 года, - a gamble, азартной игрой" (С. 237).
"Homo ludens" издана в конце 30-х гг. После чудовищной игры второй мировой, после казавшейся нескончаемой игры войны "холодной", в условиях новых, а в сущности продолжающихся на всем протяжении существования государства российского игр его со своим народом, можем ли мы сказать, что не сама даже идея, а конкретные, процитированные и оставшиеся за пределами цитирования в данной рецензии положения Хёйзинги утратили свою злободневность? Увы.
Потому, вероятно, и встречена была эта книга во всем мире как откровение, одновременно и как светлый луч в сгустившихся облаках европейского "сегодня". Но в то же время и тогда, и вряд ли когда-нибудь человечество согласится с тем, что живет оно только играя, не всерьез, равно как часть его никогда не согласится и с очевидно вытекающей из книги мыслью, что само оно, человечество, не более чем набор фигур в непостижимой игре высших сил. И по частностям, и по сути с Хёйзингой полемизировали Мэмфорд и Маркузе, Капитани, Колодий и Аверинцев, чьи доводы здесь проанализировать невозможно, да вряд ли и необходимо. Игра (а что есть исследование об игре как не сама игра?), предложенная Хёйзингой, наверное, если и должна восприниматься всерьез, то лишь в области культурологии, причем само "серьезное" в "Homo ludens" проявлено лишь настолько, насколько это необходимо опытному и умелому игроку. И если и упоминается в самом деле всерьез, то лишь в аспекте религиозной идеологии: "Из заколдованного круга игры человеческий дух может освободиться, только направив взгляд на самое наивысшее. Путем одного лишь логического осмысления вещей он далеко не уйдет <...> То, к чему пришел Платон, называя человека игрушкой богов, есть мудрость. В чудесном образе эта мысль возвращается в Книге притчей Соломоновых. Там Вечная Мудрость, начало справедливости и господства, говорит, что она до сотворения мира играла пред Богом для его увеселения и, играя в земном его царстве, она веселится вместе со смертными" (С. 239 - 240). Здесь нет никакого противоречия, поскольку и сам Хёйзинга, играя с читающим человечеством, четко сформулировал главное правило: "Подлинная игра исключает всякую пропаганду. Она содержит свою цель в самой себе" (С. 238). Но, в то же время, как всякий настоящий игрок, преследуя заветную конечную цель - победу, - мыслитель не раскрывал перед соперником-читателем до конца ни своих карт, ни своих тайных приемов, одним из которых, без сомнения, был прием ненавязчивой пропаганды христианского веручения, едва ли не единственного, о чем автор всегда говорил всерьез.
Примечания
1 Хёйзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М.: Издательская группа "Прогресс", "Прогресс-Академия", 1992. В дальнейшем ссылки в тексте приводятся по этому изданию с указанием страниц в скобках.
2 См.: Хёйзинга Й. Осень Средневековья. М.: Наука, 1988 / Хёйзинга Й. Соч.: В 3 т. М.: Издательская группа "Прогресс" - "Культура", 1995. Т. 1.
3 Меннониты - протестантская секта, основанная в Нидерландах в 30-х гг. XVI в. Менно Симонсом, проповедовавшим "второе пришествие", отказ от насилия, смирение. Учение распространилось из Нидерландов в Германию, а затем в США и Канаду.
4 Уколова В.И. Мудрость мастера / Хёйзинга Й. Соч.: В 3 т. М.: "Прогресс" - "Культура", 1995. Т. 1. С. 7.
5 Тавризян Г.М. Йохан Хёйзинга: кредо историка / Хёйзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992. С. 432.
«Homo ludens. В тени завтрашнего дня»
Год издания: 1992



