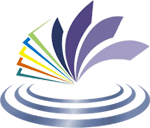Восхождение к правде: книги Василя Быкова
Быков, Василь ВладимировичПовести; Долгая дорога домой: воспоминания (любые издания)
Год издания: 2025
Рецензент: Распопин В. Н.
Восхождение к правде: книги Василя Быкова
 Есть у белорусского писателя Василия Владимировича Быкова (19.06.1924 – 22.06.2003), фронтовика, классика советской военной прозы, судьбоносный жизненный факт, роднящий его с великим русским писателем Федором Достоевским и, вероятно, не просто отразившийся в его книгах, но и создавший его как писателя, одного из сильнейших и непримиримейших в литературе ХХ века. Факт этот – стояние на эшафоте и спасение в последнюю минуту. Подобно тому, как император помиловал молодого Достоевского, заменив ему прямо под виселицей смертную казнь каторгой, 17-летнего мальчишку Быкова отпустил конвоир, ведший его на расстрел, то ли пожалев заплакавшего пацана, то ли не решившись брать грех на душу. Было это в первые дни войны, когда копавшего землю на строительных работах и во время отступления отставшего от колонны вчерашнего школьника бдительные органы приняли за немецкого шпиона.
Есть у белорусского писателя Василия Владимировича Быкова (19.06.1924 – 22.06.2003), фронтовика, классика советской военной прозы, судьбоносный жизненный факт, роднящий его с великим русским писателем Федором Достоевским и, вероятно, не просто отразившийся в его книгах, но и создавший его как писателя, одного из сильнейших и непримиримейших в литературе ХХ века. Факт этот – стояние на эшафоте и спасение в последнюю минуту. Подобно тому, как император помиловал молодого Достоевского, заменив ему прямо под виселицей смертную казнь каторгой, 17-летнего мальчишку Быкова отпустил конвоир, ведший его на расстрел, то ли пожалев заплакавшего пацана, то ли не решившись брать грех на душу. Было это в первые дни войны, когда копавшего землю на строительных работах и во время отступления отставшего от колонны вчерашнего школьника бдительные органы приняли за немецкого шпиона.
В отличие от Достоевского смерть примеривалась к Быкову вновь, во второй раз промахнувшись мимо него в сорок четвертом, когда под Кировоградом двойное ранение – в живот и в ногу – уложило будущего писателя на три месяца в госпиталь. Да и жить предстояло после демобилизации в 1947-м не в Петербурге Александра Освободителя, а в сталинской провинции, глухой и не у моря.
Родившийся в захудалой деревеньке по прозванию Бычки, некоторое время поучившийся в Гродно скульптуре, к сочинительству специально не готовившийся, в городе крыши над головой не имевший, перебивавшийся с хлеба на воду, и то благодаря публикациям в «Гродненской правде» мелких заметок, Быков вынужден был вновь возвратиться в армию и отбыть на Дальний Восток, где и мыкался похлеще купринского героя аж до 1956-го. По возвращении в Гродно, в ту же самую городскую «Правду», на четвертом десятке он начинает пробовать себя в литературе: пережитое требует выхода.
И почти сразу, хотя, конечно же, не вдруг, обретает и свою тему, и собственный стиль. Тема Василя Быкова – дилемма: остаться в живых или остаться человеком. Практически все его повести в той или иной мере эту тему и раскрывают. Жанр Быкова – повесть, хотя «Карьер» и «Мертвым не больно» нередко аттестуют романами, но это, скорее, причуды издателей и критиков. Рассказы он тоже писал, но на уровень повестей они не выходят, за исключением большой новеллы «Западня». И все быковские повести так или иначе раскрывают чисто военные сюжеты. Кроме дух небольших вещей.
Первая - «Волчья яма» - безысходнейшая даже для Быкова история двух преступников поневоле, прячущихся от общества и мира в белорусских лесах, в зоне отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС. Вторая – «Афганец» (или «Час шакалов»), совсем поздняя и более всего интересная, пожалуй, лишь легко угадывающимся за словами и действиями героев политическим противостоянием в конце 80-х западника Василя Быкова и «председателя колхоза» (именно так в тексте охарактеризован будущий многолетний президент Беларуси), рвущегося к власти.

Повести эти солнечным светом никак не озарены. А есть ли оно, солнце, вообще в книгах Быкова? Есть. Несмотря на трагические (даже в тех случаях, когда главные герои остаются в живых) финалы повестей этого несомненнейшего экзистенциалиста, созданного военными и советскими мытарствами, если не солнце, то некий отраженный, пробивающийся сквозь туман и через болота свет мужества, свет подвига, а то и свет любви не позволяет безысходному пессимизму сгуститься до совсем уж непроглядного мрака.

Самый яркий пример тому – одна из ранних книг – «Альпийская баллада», действие которой происходит в горах, где безуспешно пытаются спастись два беглеца из гитлеровского плена – белорусский крестьянин и итальянка, охваченные предсмертной любовью. Или – большая повесть «Карьер», где совершенная безысходность настоящего освещается памятью о короткой военной любви ушедшего, но не оставляющего героя прошлого.
В общем, повести Быкова достаточно четко разделяются на истории фронтовые и истории партизанские. К последним он, в партизанском движении не участвовавший, обратился, отчаявшись сломить сопротивление цензуры и официальной критики, каждую его правдивую фронтовую вещь принимавших в штыки. Подобно тому, как многие талантливые советские авторы вынуждены были уйти в фантастику или в детскую литературу.

Фронтовые повести Василя Быкова – «Третья ракета», принесшая известность молодому писателю, «Журавлиный крик», «Его батальон», «Круглянский мост», «Западня», автобиографическая вещь «Мертвым не больно», а также «Дожить до рассвета» - самая, быть может, мощная и самая пессимистичная его книга. Партизанские – «Пойти и не вернуться», «Стужа», «Обелиск», истинные шедевры отечественной литературы «Сотников» и «Волчья стая». Я назвал лучшие книги, но уже по одному только их количеству можно судить об уровне этого писателя.
Больших романов Быков не писал: его истинный масштаб именно в очень высоком и ровном уровне его вещей. Каждая небольшая по объему повесть во время чтения захватывает и сюжетом и содержанием, а потом, в памяти, вырастает в масштабный роман.

Почему так? Потому, что писал советский экзистенциалист Василий Владимирович Быков прежде всего о трагедии «внутреннего человека». Человека, совсем не обязательно изначально героического, сильного, уж никак не победительного. Победительные-то как раз у него и не побеждают, подобно отличному солдату Рыбаку из повести «Сотников», предавшему, чтобы избежать смерти; побеждают – себя и врага, пусть лишь морально, но ведь это и есть главная победа: остаться человеком! – побеждают слабые телом, но сильные духом. Не могущие предать, даже во имя того, чтобы выжить.
Все лучшие книги Быкова экранизированы. Увы, как правило, слабо. Пожалуй, только «Альпийская баллада» Бориса Степанова (которую писатель оценивал невысоко) и, главное, «Восхождение» Ларисы Шепитько - по «Сотникову» адекватны повестям по воздействию на зрителя.

Военные повести Василя Быкова, увенчанного на закате СССР орденами и Золотой Звездой, но вовсе этому не радовавшегося, как пишет он в своей столь же правдивой и очень грустной мемуарной книге «Долгая дорога домой», переведены на два десятка языков (а на русский переводил их он сам), в нашей литературе аналогов не имеют. Его проза, особенно фронтовая, в какой-то мере относима, конечно, к «лейтенантской» прозе, но лишь по видимой поверхности. Ведь то, о чем он говорит, – не окопы, вши, ошибки командования или преступления спецслужб, даже не смертная вражда с оккупантами, а борьба внутри человека, борьба его с самим собой под кинжальным огнем противника. Борьба, победа в которой, пусть чаще всего ценой собственной жизни, она-то и есть – тот самый свет, без которого нет и не может быть большого отечественного писателя, даже если по сути своей он глубокий пессимист.
«Восхождение к правде: книги Василя Быкова»
Год издания: 2025